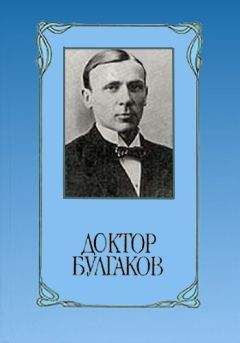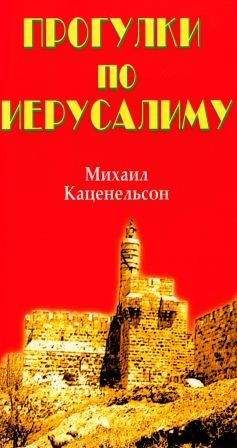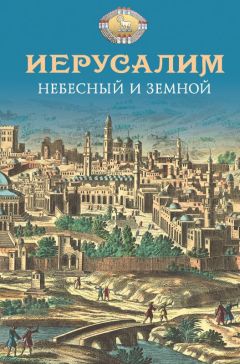Иерусалим и его обитатели. Иерусалимские прогулки - Виленский Лев (Лейб) Вульфович
Однажды, когда я был у нее на Шабат в очередной раз, на улице зарядил сильный ливень. Рахель уговорила меня остаться. Мы говорили о том, о сем, немного о политике, чуть-чуть о поднятии цен, о детях, постепенно разговор перешел на тему, которую я никогда не задевал. На отношения мужчины и женщины.
Она стояла у окна. На улице сильный дождь стучал в стекла, выл ветер. Рахель взглянула на меня своими серыми глазами, и неодолимая сила бросила меня к ней. Ее руки сплелись у меня на затылке. Мы поцеловались, раз, другой… а потом, под аккомпанемент ветра и бури я взял на руки ее легонькое горячее тело и отнес в спальню, где стояла только аккуратно застеленная супружеская кровать и маленький шкаф для одежды. Я любил ее ночь напролет, неистово, страстно, не останавливаясь… я был молод, и она нравилась мне так сильно, как ни одна женщина в мире не могла мне нравиться. Под утро она тихонько выскользнула из-под моей руки, разбудила меня, ибо детям не следовало видеть меня с утра, и я вышел в серую мглу дождя, со свертком в руках. В свертке, кроме фаршированной рыбы и кугеля, лежала маленькая записка: «Я люблю тебя!», – писала Рахель смешным круглым почерком, – «храни тебя Б-г!».
Мы встречались с ней только по вечерам в пятницу, и я уходил от нее, окрыленный и счастливый, под утро. Мои однокурсницы с удивлением замечали, что я не смотрю на них. А я и не мог – вульгарные местечковые девицы, корчившие из себя светских дам, и спокойно рассказывавшие мне, что у них сегодня течка, и как неслабо они провели ночь с тем-то и тем-то вызывали у меня такое отвращение, что я с трудом сдерживал себя, чтобы не плюнуть. Будни пролетали для меня медленно – я с нетерпением ждал своей пятничной работы, молитвы в синагоге, теплой домашней еды и прикосновения рук и языка любимой женщины. Несколько раз я – честный еврейский мальчик – предлагал ей выйти за меня замуж. Она только вздыхала и гладила меня по голове… ей было 28 лет.
А потом ее сосватал добрый и хороший человек, у которого была бакалейная лавка, и который остался холостяком из-за своей отталкивающей внешности – на лице у него царили одни сплошные огромные губы и толстый мясистый нос. Он не знал Торы, но его толстый бумажник, который он то и дело вынимал волосатыми сильными пальцами, перекрыл все.
Они пригласили меня на Шабат.
Я мучительно улыбался так, что сводило скулы. С уважением принял от мужа Рахели – а звали его Хаим – кусок халы, долго смотрел, как он, некрасиво морщась, с шумом втягивал в себя бульон, зажав ложку в мохнатом кулаке. А Рахель с гордостью смотрела на нового мужа, изредка приободряющим взглядом глядя на детей. Те с настороженностью глядели на нового папу.
Когда я выходил, Рахель сунула мне в руки завернутый в белую бумагу сверток. Я развернул его под фонарем. Там была маленькая записка. Тот же смешной круглый почерк: «Прости, милый, Господу было угодно…». И лежала вкусная фаршированная рыба.
Был месяц апрель. Пахло новой листвой. Над Городом, в темной глубине шабатнего неба, летели стаи перелетных птиц, курлыкая и хлопая крыльями.
Словно огнем пронзило мне сердце. Дыхание сперло. Я бросил вкусную рыбу прямо на мостовую, и, давясь рыданиями, вытащил из кармана мятую пачку сигарет, с отвращением закурил…
Дома отец, не получивший порции рыбы, отец, которого я – ничтоже сумняшеся – уже не считал никаким авторитетом, долго смотрел на меня. Он плохо понимал в жизни, мой отец. Так мне казалось.
– Вот ты и повзрослел на Субботу, сынок, – сказал он неожиданно. И налил мне стакан виски.